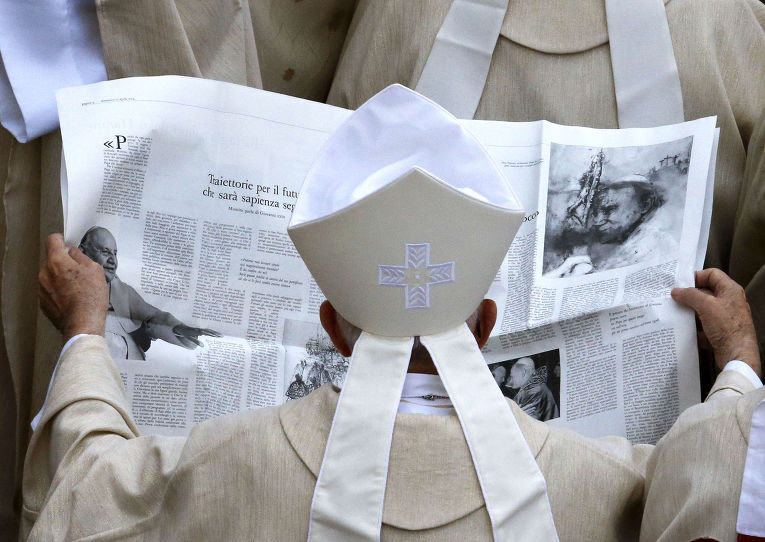Газета "Наш Мир" Газета
«Наш
Мир» Газета
«Наш
Мир»
Великая депрессия и войны в Ираке и Афганистане, возможно, самые
тяжелые проблемы, с которыми мы столкнулись за несколько десятилетий.
Справиться с ними не проще, чем управлять гениальным изобретением
мастера-самоучки, который уже сам успел забыть, как оно работает, не
говоря уже о том, как оно собирается и где у него главная кнопка. Где
взять инструкцию? Как остановить эту штуку? Может быть, если удастся
понять, откуда поступает горючее, то можно будет перекрыть шланг, и в
конце концов она заглохнет?
Обратите внимание на
подготовленную Пентагоном электронную презентацию, посвященную войне в
Афганистане. Вы видите хитросплетение линий и стрелок, связывающих между
собой кружочки, в которых написаны слова «БОЕВИКИ», «ВОЗМОЖНОСТИ И
ПРИОРИТЕТЫ КОАЛИЦИИ» и т.п. Схема дает почувствовать всю сложность
американского стратегического планирования. «Если нам удастся
разобраться в этой схеме, — сказал командующий американским контингентом
в Афганистане, генерал Стэнли МакКристал, — можно будет считать, что
победа у нас в кармане».
Параллельно мы узнаем все больше нового о
финансовых инструментах, приведших экономику к коллапсу, и выясняется,
что называть их «экзотическими», как это было принято до сих пор, значит
не сказать ничего. Якобы обеспеченные искусственно выдуманными активами
долговые обязательства выдавались на максимально непрозрачных условиях и
неслучайно не поддаются контролю и проверке. Эта таинственность привела
к гибели таких компаний, как страховая фирма A.I.G., для которой оценка
рисков, по идее, являлась хлебом насущным. Для того чтобы спасти A.I.G.
от банкротства, потребовалось государственное вливание в размере $85
млрд.
Некогда усложнение означало усовершенствование. Теперь же
оно предвещает новые проблемы.
Кажется, что победный марш в
направлении все большей сложности превратился в спринтерский забег.
Проблемы становятся настолько многоплановыми и распадаются на такое
количество не вяжущихся друг с другом частей, что остается только
надеяться, что кто-то там, наверху, хоть что-нибудь во всем этом
понимает. Прежде усложнение означало прогресс, появление новых
замечательных устройств, усовершенствование технологий. Но сегодня за
каждой дорогостоящей и неизвестно, разрешимой ли в принципе проблемой
нашего времени маячит именно оно, усложнение.
«Мы обречены?» —
гласит заголовок статьи в прошлогоднем номере британского журнала New
Scientist (ответ: не исключено). Разговоры о «последних днях» слышны со
всех сторон. Именно этот лейтмотив просматривается в работе Джозефа
Тейнтера, антрополога из университета штата Юта, автора книги «Коллапс
сложных обществ». Тейнтер рассматривает три древних цивилизации, в том
числе Римскую империю, и показывает, как постоянное усложнение в конце
концов привело их к краху, причем основную роль он отводит расстройству
финансовой системы.
Не имеет ли он в виду сложность проблем,
стоящих перед Соединенными Штатами? Возможно.
«Усложнение
подкрадывается незаметно, — сказал Тейнтер в недавнем интервью. — Каждый
новый шаг, усложняющий картину в целом, поначалу кажется разумным.
Когда мы вторглись в Афганистан, это казалось разумным. Но совокупная
цена отдельных проблем растет, как снежный ком, и в конце концов может
погрести общество под собой. Римские императоры лишь реагировали на
возникающие ситуации, и по отдельности реакции были вполне адекватными.
Но кумулятивный эффект множества проблем погубил Рим».
Тейнтер не
пытается спекулировать ностальгическими прелестями простоты, и это
мудро с его стороны, поскольку они вряд ли имели бы успех. Большинство
из нас питает слабость к сложным вещам (сказанное не относится к пультам
дистанционного управления телевизорами), или, по крайней мере, к идеям и
вещам, в которых сразу не разберешься. Отчасти в основе этого лежит
представление, что сложные вещи создаются особо острыми умами, но
отчасти причина кроется и в том, что мы понимаем «сложность» как синоним
прогресса.
Практически любая профессия стала в наши дни намного
более сложной, чем прежде. Например, как рассказывает Гэри Жиро,
профессор бухгалтерии техасского университета A & M, объем данных,
которые требуется помнить в наши дни лицензированному бухгалтеру, в
последнее время увеличивается лавинообразно. Настольное для каждого
бухгалтера издание, так называемое «Базовое руководство», уже состоит из
более чем 10 тысяч страниц.
«Сто лет назад, — утверждает Жиро, —
бухгалтерию вообще не преподавали, никаких «Базовых руководств» не
было, и все, что требовалось от бухгалтера, это уметь хорошо считать.
Этого было достаточно, чтобы проверить внутренний учет компании и
удостовериться, что деньги не разворовываются. Что случилось с тех пор?
Подоходный налог появился только в 1913 году. А до принятия «Нового
курса» президента Рузвельта не существовало Комиссии по ценным бумагам».
Это
возвращает нас к печальной картине сложных проблем современности.
Вместо улучшения и облегчения нашей жизни усложнения добавляют головной
боли.
Бренда Зиммерман, профессор Шулиховского института бизнеса в
Онтарио, полагает, что нужно разграничить понятия «сложный» и
«сложносоставной». «Сложно, — говорит она, — послать ракету на Луну —
для этого требуются чертежи, вычисления и множество точного оборудования
и написанных на высоком уровне программ. С другой стороны, воспитание
ребенка — это сложносоставная задача, также очень непростая, но
вычисления и чертежи для ее решения не требуются. Западное общество
стало жертвой сложности. Мы благоговеем перед ней и забываем о
необходимости задавать простые вопросы. Когда же мы имеем дело со
сложносоставными проблемами, мы об этом помним».
Но сложность
превозмогает наши лучшие намерения. Надеяться на то, что к нам вернется
эра блаженной простоты, бесполезно. Лучшее, что нам остается, это искать
решения, достаточно сложные для того, чтобы быть эффективными.
|







 Газета
Газета