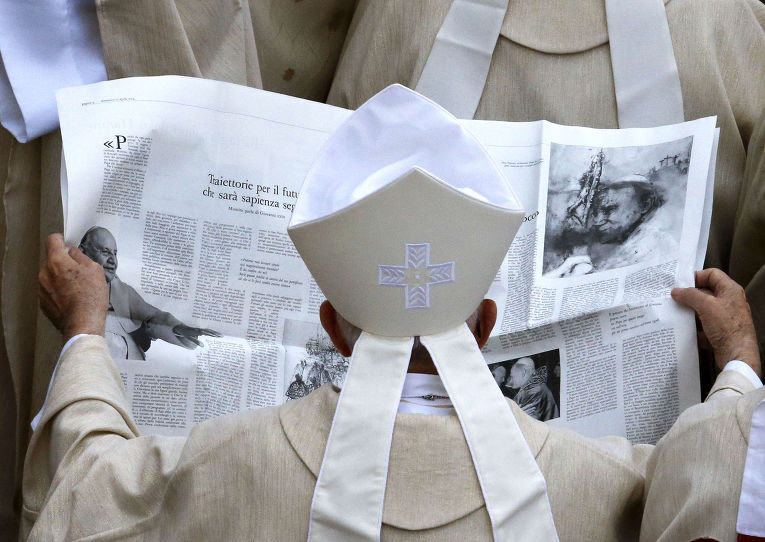Газета "Наш Мир" Сохраняющаяся политическая
турбулентность в арабском мире не мешает делать первые выводы из
происшедших событий. Начнем с того, что президенты Египта и Туниса
пришли к власти разными путями – Мубарак стал преемником убитого
радикальными исламистами Садата, бен Али сменил в результате бескровного
переворота старого «отца нации» Бургибу. Но и тот, и другой смогли
вывести свои страны из тупика. При Мубараке Египет не только вышел из
изоляции в арабском мире (сохранив при этом нормальные отношения с
Израилем), но и вновь занял в нем ведущие позиции. Бен Али активно
способствовал преодолению отсталости Туниса, в том числе с помощью
активной компьютеризации (что парадоксальным образом обернулось против
него).
Но динамичные «силовики» (Мубарак – летчик, бен Али – спецслужбист)
за десятилетия своего правления исчерпали свой потенциал, их репутация
претерпела моральный износ. Борцы с коррупцией в начале правления, они, в
конечном счете, создали режимы, не менее (а то и более)
коррумпированные, чем существовавшие при их предшественниках. Начав с
концентрации вокруг себя наиболее дееспособных элитных групп, к концу
своего пребывания и бен Али, и Мубарак оказались лидерами семейных
кланов, вызывавших сильное раздражение как большинства элит, так и
населения. Каждый из них пытался следовать по пути сирийца Асада,
которому удалось создать квазидинастию, когда власть унаследовал его
сын. Разница в том, что если Мубарак с преемником почти определился
(хотя его сын Гамаль был непопулярен в армии, основной опоре режима), то
бен Али, хотя и не успел этого сделать, но направление поисков также
носило «семейный» характер.
В обоих случаях коррумпированная полиция находилась в конкурентных
отношениях с армией, сохранившей авторитет у населения; разница состояла
в том, что если в Тунисе армия участвовала в изгнании с позором бен
Али, то в Египте она, по старой памяти (все же речь идет об одном из
героев войны 73-го года), ориентирована на то, чтобы Мубарак покинул
свой пост с максимально возможным почетом. От бен Али отреклись высшие
должностные лица страны – премьер-министр и спикер парламента. В
оппозиции к Мубараку оказались эль-Барадеи и Амр Муса, соответственно,
экс-президент МАГАТЭ и генсек Лиги арабских государств, занявшие свои
посты в значительной степени из-за роста международного авторитета
Египта при нынешнем президенте.
Как бен Али, так и Мубарак допускали в своих странах оппозицию – в
отличие от их ливийского соседа Каддафи, чей режим отличается куда
большей жесткостью. Это способствовало тому, что революции в этих
странах не приняли характера кровавой вакханалии – насилие носило
сравнительно ограниченный характер. У народных выступлений оказались
публичные лидеры (хотя бы формальные, с относительно ограниченным
влиянием на массы), не заинтересованные в том, чтобы крушить все вокруг.
Однако оппозиция в период «стабильности» была лишена каких-либо
возможностей прихода к власти – в ситуации роста недовольства населения
(в том числе ростом цен на продовольствие) невозможно было обеспечить
переход власти от одной политической силы к другой, который в
демократическом обществе позволяет смягчить напряжение.
В Тунисе в парламент последние два десятилетия допускалась в основном
«карманная» оппозиция, участники которой в обмен на гарантированные
мандаты имитировали конкуренцию с правящей партией. На последних при бен
Али парламентских выборах в 2009 году настоящая оппозиция получила 2
(два!) депутатских мандата (для сравнения – правящая партия – 161
мандат, а «лояльные оппоненты» - 51). Одна из крупнейших оппозиционных
партий – прогрессивные демократы – вообще мест не получила. Исламисты
(будь то радикальные или умеренные) к выборам допущены не были.
У Мубарака ситуация была несколько иной. Под влиянием Запада он
решился на «полусвободные» выборы, в том числе разрешив участие в них
умеренных исламистов, которые в результате получили 20% мандатов. Это
вызвало серьезнейшее беспокойство у президента и его «ближнего круга» –
на последних выборах, в ноябре-декабре 2010 года, фальсификации достигли
такого масштаба, что в первом туре в парламент не прошел ни один
исламист (зато 209 депутатов от правящей партии). Либералы получили
«подачку» в виде шести мест. Второй тур вся оппозиция бойкотировала, что
привело к формированию практически однопартийного парламента.
И бен Али, и Мубарак были сильными политическими лидерами общества ХХ
века – с развивающейся промышленностью, модернизацией «сверху» при ярко
выраженной этатистской модели, преуспеванием приближенного к власти
бизнеса, с «управляемой демократией» и цензурой той или иной степени
жесткости. Они не смогли противостоять новым вызовам. Таким как
безработица образованной городской молодежи, гуманитариев, которые
вынуждены работать торговцами, чтобы не идти в разнорабочие – появилась
масса «лишних людей». Возник драматический разрыв между желаемым и
реальным статусом интеллигентов, которых продолжали регулярно выпускать
национальные университеты. При этом интеллигент – это не только человек с
высокой самооценкой и часто склонный к рефлексии, но и имеющий доступ к
современным технологиям – Интернету, мобильной связи – которые способны
пробивать «железные занавесы», характерные для ХХ столетия. Хорошо
известно, что Интернет выступает в качестве как коллективного
пропагандиста (сообщая о фактах коррупции президентского окружения), так
и коллективного организатора, мобилизующего людей на протестные акции.
Сейчас наиболее активные и честолюбивые «лишние люди» получают
возможность самореализоваться в политике, но большинству из них, скорее
всего, придется довольно скоро (когда закончится «карнавал») испытать
новые разочарования.
Недовольство элит плюс протест образованной молодежи привели к
кумулятивному эффекту. К этому добавляется мощный и долгое время
загоняемый внутрь исламский фактор, значение которого сейчас просчитать
непросто. Можно только сказать, что «исламизм» нуждается в
дифференцированном анализе, понимании того, что взгляды части из них
мало отличаются от приоритетов турецкого премьера Эрдогана. В Турции
такая дифференциация произошла еще в 90-е годы – на «интегристов» и
«умеренных»; последние пытаются найти синтез между исламскими ценностями
и традицией Ататюрка, несмотря на их внешнюю несовместимость. По
крайней мере, ни в Египте, ни в Тунисе пока не видно нового аятоллы
Хомейни – он, впрочем, может появиться, если хаотизация в этих странах
не прекратится.
Наконец, последний фактор – изменение позиции Запада. Холодная война
(делившая мир на «своих» и «чужих») давно закончилась, общественное
мнение стало значительно более негативно относиться к нарушениям прав
человека и коррупции. Так что бывшим «стратегическим партнерам» может не
найтись места в западных странах, даже если они успевают вовремя
покинуть страну. В 86-м году Франция приняла одиозного Дювалье-младшего,
сейчас она не пустила к себе куда менее отталкивающего бен Али (а
родственников бывшего тунисского президента гонят из Канады). Ряд
западных стран отказали в поддержке и Мубараку, в частности, после
некоторых раздумий, от него отвернулись и США, которые сейчас, похоже,
пытаются понять, у кого больше шансов получить власть – у генерала
Сулеймана или эль-Барадеи. Быть может, история вынесет более
сбалансированный вердикт в отношении многолетних лидеров Туниса и Египта
– по крайней мере, Мубарак, безусловно, является выдающимся
государственным деятелем. Но у современного глобального мира свои законы
– и иногда более жестокие для правителей традиционного типа, чем
«правила игры» ХХ века, предусматривавшие на худой конец возможность
спокойной жизни в эмиграции где-нибудь на Лазурном берегу для обладателя
счета в «непрозрачном» швейцарском банке.
|