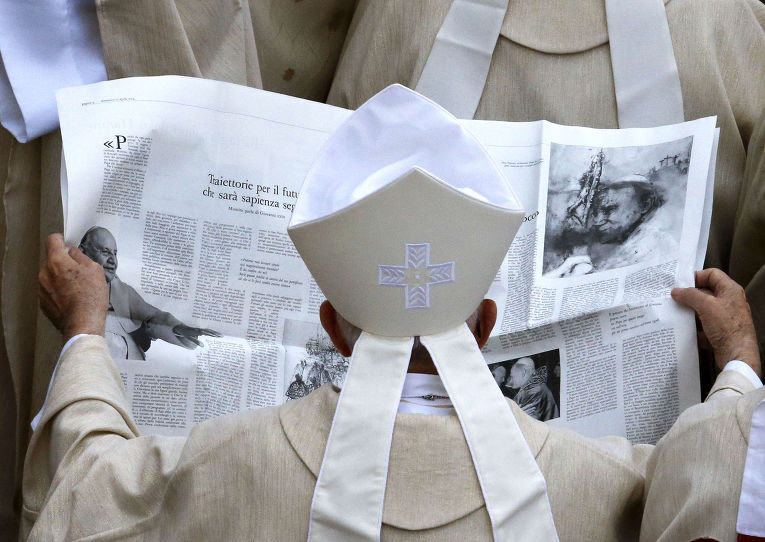В эти выходные в английском пригороде собрались министры финансов
Большой семерки развитых стран. Разумеется, они вполне единодушно
провозгласили, что миру нужен экономический рост. Однако здесь есть одна
проблема. Когда речь заходит о том, что это означает в
действительности, американцы с европейцами просто не могут
договориться. Причем, дело даже не в том, что они предпочитают разные
подходы к экономическому анализу. Дело в фундаментальной разнице между
культурами.
По общим отзывам, настроения на встрече были
сердечными. Дела сейчас обстоят не слишком хорошо, но они бывали и хуже.
В сложившихся обстоятельствах министры предпочли на время отложить в
сторону опасения, связанные с радикальным японским экономическим
экспериментом, который предвещает возвращение к международным валютным
войнам. Однако переход Токио к монетарному экспансионизму не был
единственным предметом противоречий.
Разницу между американцами и
европейцами наглядно продемонстрировали мне две, последовавшие одна за
другой встречи с политиками с разных сторон Атлантики. Сначала я
пообщался с крупным политическим деятелем из еврозоны, который объяснял,
что надежды нужно сообразовывать с реальностью. Даже когда экономика
выберется из ямы, в которой она оказалась, Европа не вернется к
временам, когда 3% роста выглядели обоснованной нормой. Намного
вероятнее перспектива 1,5-2% роста, и то только после того, как еврозона
решит проблему долга.
В
то же утро видная фигура из Вашингтона предложила мне совершенно другой
взгляд на происходящее. Рост в США составляет 2-2,5%, заявил мой
собеседник. Такие медленные темпы не могут удовлетворить администрацию
Барака Обамы. Их нужно увеличить, чтобы снизить безработицу, а так как
США не могут больше в одиночку служить двигателем глобального
экономического роста, свой вклад должны внести другие крупные экономики,
в том числе европейские. При этом безработица в США составляет 7,5%, а в
еврозоне в среднем 12%.

Вашингтон
считает, что он выиграл спор о том, как правильно реагировать на
финансовый спад и доказал, что экономией роста не добьешься. Цифры,
казалось бы, это подтверждают. Американская экономика растет,
европейская держится на одном уровне. Конечно, США нужно что-то сделать с
бюджетным дефицитом, но в целом они и с этим справляются – пусть даже
процесс выглядит несколько неопрятно. Между тем, изрядная часть Европы,
включая Британию, попалась в долговую ловушку – медленный рост
нивелирует влияние сокращения расходов и роста налогов на объем
государственного долга.
Однако если посмотреть на долговременные
тенденции окажется, что американские и европейские политики ставят перед
собой прямо противоположные цели. Европейцы быстро стареют, и население
во многих странах сокращается. Экстраполяция текущих тенденций в
областях рождаемости и иммиграции показывает, что к 2050 году население
Германии может сократиться примерно на 10 миллионов человек - если не
сильнее. 1,5 % роста – это совсем не так плохо, если их плоды будут
делить между собой меньшее количество людей. Между тем, широкомасштабная
иммиграция обеспечивает США рост населения и его сравнительную
молодость.
Таким образом, ключевое различие между двумя
континентами носит культурный характер и частично проистекает из
демографических показателей. США остаются двигателем предпринимательства
и инноваций, Европа старается избегать риска. Это проявляется во всем –
в робости политиков, в нежелании бизнеса инвестировать, в неготовности
избирателей к переменам.
Именно этот настрой подталкивает немцев
отказываться от ядерной энергетики, французов – выступать против
малейших перемен в своей общественной модели, итальянцев – отвергать
экономические реформы, а британцев с неприязнью относиться к новому
строительству и руководствоваться принципом «только не в моем квартале».
Последнее обеспечивает Британии острую нехватку жилья, проблемы с
железными дорогами, автомобильными дорогами и аэропортами. За всем этим
стоит одна общая тенденция – обусловленное культурой стремление
европейцев (в первую очередь, тех из них, кто принадлежит к старшим
поколениям) держаться того, что они имеют, сочетающееся с нежеланием
развиваться в новых направлениях.
Если быть честным, мой
европейский собеседник выражал особенно пессимистичные – можно сказать,
по-немецки пессимистичные – взгляды на потенциальные темпы роста на
континенте. Многие в Европе хотят для своих экономик намного большего, а
во Франции и Британии в первую половину столетия население будет расти.
Но в том, что касается избегания рисков, он был прав. Пока Европа живет
в прошлом, она будет отвергать возможности будущего.